Анатолий Бергер - Состав преступления [сборник]
Жёсткий, горячий Ашхабад, столица Туркмении, принял в свои жаркие объятия непутёвого москвича. Жена оказалась милой, доброй, но Юра не любил её. Жизнь ашхабадская его мытарила, и он решил бежать не в Москву, а сразу в Америку. Тайно уехал из Ашхабада в Ленинград, проник в морской порт и стал высматривать корабль, чтобы спрятаться в нём и отплыть в Европу или куда угодно, только бы из СССР, а потом уж в Америку к любимой. Юра выбрал западногерманский пароход «Мазовша» и первую ночь наблюдал за ним и за жизнью порта, за действиями охраны на вышках. Ночью прожектор каждые несколько минут равномерно шарил по открытому пространству. До корабля надо было ползти в промежутках темноты, и Юра решился, пополз. Он был уже почти у сходен, когда прожектор нащупал его и пригвоздил к земле. Матросы с «Мазовши» пытались помочь Юре, но куда там. Так он попал в тюрьму КГБ в Ленинграде. Сначала шили измену Родине, шантажируя пометами в записной книжке (читатель помнит, что значит для КГБ записная книжка пойманного советского интеллигента, это взрывное устройство, которое носишь в кармане). Но у Юры все-таки была мама с большими связями среди московских гэбешников и адвокатов. Она пригласила защитника из Инюрколлегии, он приехал из Москвы и быстро перевёл Юру с расстрельной 64-й на обычный незаконный переход границы. Хотя питерские следователи и упирались, но Москва пересилила. Юра получил свои 2,5 года и ждал отправки в лагерь. Так мы и встретились.
Новый мой сокамерник мне нравился. Он был умён, добр, весел и отважен. Сам обладая лёгким пером (видимо, от мамы), он очень заинтересовался моими стихами, переписывал их день за днём, убеждал меня писать прозу, и я действительно написал, сидя с ним, новеллу «Может быть» из жизни немецкого интеллигента времён нацизма, где прозрачно намекалось на наше отечественное житьё-бытьё.
Сидели мы отлично, дружно, передачи делили по-братски, читали друг другу — я ему стихи и сочиненную только что новеллу, которая его восхищала, он мне начало своей повести. Юра часто рассказывал о своих московских приключениях, молодые ещё тогда Леонид Филатов, Наталья Варлей, Владимир Высоцкий и Никита Михалков, как в скоростном киноролике, мелькали передо мной, а кругом темнели голые тюремные стены, холодил ступни цементный пол, гвоздём колола глаза торчащая над дверью никогда не выключаемая лампочка. В конце концов месяц нашей тюремной жизни минул, и Юру увели. Мы обменялись адресами, позже он не раз бывал у меня дома в Ленинграде, рассказывал о своей теперешней московской жизни. Отпустил бороду, заматерел. Снова женился. Родился сын, названный в честь деда — Давидом. Американку Юра почти забыл, вся эта романтическая история осталась в далёкой дотюремной жизни. Она вначале писала Юре, звала, но время было советским, гэбешным, закупоренным.
Юра пытался помочь мне с публикацией стихов, но не удавалось. А потом он пропал, поменялся его телефон, где он, что он — сейчас уже и не знаю. А жаль, это был лучший мой сокамерник. Дай Бог ему удачи, заводному московскому парню Юре Соколову.
* * *Последним моим сокамерником по тюрьме КГБ на Литейном, 4 был студент Ш. — забыл его имя. Щуплый, невысокий, рыжеватый — типичный еврейский студент-технарь, усердный, вдумчивый, знающий, где он живёт и что ждёт его в будущем. Ш., на беду свою, очень уж внимательно читал Маркса и Энгельса и дочитался до тюремной камеры. Я сейчас не помню его расхождений с официальным марксизмом-ленинизмом, да и вряд ли это интересно (это и тогда было мне неинтересно), но парень он был добрый, уживчивый, сидели с ним вполне сносно. Срок ему дали небольшой, меньше моего, и ждал он лагеря спокойно, не ныл, что в тюрьме совсем не пустяк. Позже я встречал его в лагере, он и там был таким же, как в камере. Потом, кажется, все-таки уехал в Израиль, сидение вместе с сионистами даром не прошло. Я, впрочем, говорю это с полным почтением, я единственный, по-моему, еврей в нашем лагере, кто не уехал в Израиль. Но такова уж, видно, моя судьба, от которой, как известно, не уйдешь. Хотя жизнь ещё не кончена, а будущее знает только Бог.
Как-то так получается, что мне нечего больше сказать о Ш. Он был такой узнаваемый, такой привычный, такой студенчески-еврейский, такой марксистско-ленинский, что, мне кажется, и сейчас, встреть его, израильтянина со стажем, вряд ли я смог бы что-либо добавить.
На этом и кончается описание моего тюремного житья-бытья, моего тюремного года, моих спутников в этом тяжком странствии.
Свидетель
Это было в середине нашего с Брауном суда в декабре 1969 года. Дело быстро катилось к концу по накатанным скользким рельсам советской юриспруденции: холодно-беспощадно свиристел голос прокурора Инессы Васильевны Катуковой, готовно гудел тяжёлый низкий голос судьи Исаковой и семафорно подмигивали ему голоса народных заседателей. И слабо, отдалённо, как невнятное объявление в глубине вокзала, слышались, прерываясь на полуслове, нетвёрдые голоса адвокатов, да и замолкали надолго. И совсем уже еле слышно, как говор на перроне, мелькали наши голоса со скамьи подсудимых. Голоса свидетелей наших звучали ещё тише, ещё слабей, порою слышать их было ещё мучительней, чем голоса судьи и прокурора. Но вот настал день, и на маленькую сутулую трибунку свидетеля взошёл он, поразив нас ещё при входе своём в зал.
Сияющий сединами, весь какой-то светящийся, прямой, как воздетый указательный перст, твёрдо глядящий перед собой, он шёл твёрдой и в то же время лёгкой походкой. Широко открытые глаза лучились, губы были сжаты. А было ему тогда девяносто два года. Привезли его из Владимира, куда ездил за ним и брал показания следователь. Это был знаменитый когда-то Василий Шульгин — депутат царской Думы, редактор киевской газеты «Киевлянин», борец с советской властью.
Он выступал сейчас как свидетель Коли Брауна, тот бывал у него во Владимире, читал ему свои стихи. Удивительно было видеть Шульгина, светящегося отсветом начала века, напротив тёмной сплочённой кучки советских судейских. Всё выглядело, как находка кинорежиссера, и фильма этого мне не забыть никогда.
Его спросили о стихах Коли:
— Мы со следователем, очень милым молодым человеком, долго читали стихи Буби (так он называл Колю), но ничего антисоветского в них не обнаружили, — ответил своим медленным, словно шествующим голосом Шульгин.
— А что вам известно о фашистских высказываниях подсудимого, об его нацистских убеждениях? — спросили его.
— Прежде я хотел бы сказать о том, что фашизм и нацизм — разные понятия. Фашизм крайне неприятен, порочен, но при определённых обстоятельствах может быть терпим, нацизм нетерпим ни при каких обстоятельствах, преступен и подлежит самому непримиримому осуждению. Что же касается Буби, то ни фашистских, ни нацистских высказываний я от него никогда не слышал. Да я бы их и не стал слушать.
Он посмотрел на нашу скамью подсудимых, где сидели мы с Брауном, своим твёрдым светлым взглядом. Это были воистину минуты какого-то странного потустороннего счастья в безвыходном нашем настоящем. Мы были потрясены, судейские посрамлены. Присутствующие, наши родные, друзья, знакомые смотрели на Шульгина во все глаза.
Выступление было закончено. Шульгин так же прямо, твёрдо и неуклонно, высоко подняв голову, покинул зал. Вместе с ним ушёл свет, исходящий от него. В зале снова стало темно и безысходно. Россия серебряного века скрылась за дверьми, за окном виднелся век ржаво-железный.
Суд наш ещё быстрее покатился дальше. 15 декабря нам объявили приговор. Скоро уж предстоял этап и лагерь. Шульгина мы больше никогда не видели. Он умер девяносто шести лет от роду во Владимире, похоронен там же.
Р.S. Сейчас я знаю о Шульгине много больше тогдашнего. Сейчас он не чудится мне столь светлым. Но не стал сегодня переиначивать то, что чувствовал вчера.
Суд
1
Лети былое прахом,
Казнить тебя пора
Руки единым взмахом
И росчерком пера!
Чтоб насмерть — не воскресло,
Не вырвалось из мглы.
О, как жестоки кресла,
Пронзительны столы!
Глядят глаза лихие
И в голосах тех — яд.
От имени России
Навытяжку стоят.
И не спастись, не скрыться,
Не пошатнуть стены.
Вдали родимых лица
Печальны и верны.
…И этот страх барьера
И эта вот скамья —
Моей судьбины мера,
Отныне суть моя?
Встать, сесть имею право,
Отсчитаны шаги.
Налево и направо
Погоны, сапоги.
2
И чем душа кипела,
Чем был годами жив,
Теперь подшито к делу
И брошено в архив.
Родимые тетради,
Знакомых рифм гурьба,
Дрожь сердца в звонком ладе,
Что ни строка — судьба.
Как трепетно порою
Листал, то тешась вновь
Созвучною игрою,
То правил, черкал в кровь!
Сквозь точки, запятые
Мелькали тем видней
Судьбы перипетии,
Событья прошлых дней.
И всё, как взрывом — с маху,
Бей штемпель тот, кости!
Грядущее, ты к праху,
А нынче — Бог прости!..
В лихие те картоны,
В железо скрепок тех
Моленья, зовы, стоны,
И праведность, и грех.
Лагерь

![Анатолий Бергер - Горесть неизреченная [сборник]](/uploads/posts/books/40475/40475.jpg)
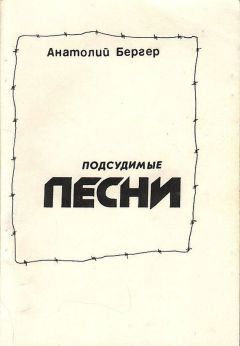
![Анатолий Бергер - Времён крутая соль [сборник]](/uploads/posts/books/258678/258678.jpg)
